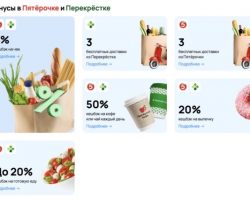Рыбный день
Москвина Марина — Рыбный день
– Эх, не завидую я тем, кто у рыбацкого костра не сидел. Кроты они, а не люди,– говорил наш сосед Толя Мыльников, слесарь. Мы стояли с удочками на берегу Витаминного пруда в Уваровке: я, он и мой папа.
Громко квакали лягушки. Я заметил, как кваканье зависит от солнца. Закроет облаком солнце – кваканье одно, откроет – другое, ветер подует – третье, и комариный писк примешивался к кваканью лягушек.
Мыльников Толя выдёргивал ротанов без передышки. И папа вы¬дёргивал – проверял: висит червяк или нет? Висит.
– Я люблю с червяками возиться, – говорил папа. – Червь, – говорил он, – это нитка, связующая небо и землю.
Вдруг леску потянуло. Я думал, зацепило корягу или валенок. И говорю папе:
– Зацепило.
А папе мне:
– Тащи!
Я потащил – и чувствую, как под водой что-то увесистое тянет¬ся, причём, упирается, мечется из стороны в сторону, пытается освободиться от крючка.
Папа кричит:
– Андрюха! Дай я дёрну!
– Не торопись, – говорит Мыльников Толя. – Води, води его на кругах. Глотнёт воздуха – сомлеет.
Ну, я тянул, тянул его, тянул, тянул, тянул и выдернул рыбу – карася. И сразу же оборвалась леска.
Карась был тяжёлый, как сковородка. Серебряный, красноватый. Карась. Настоящий такой карась!
– Здоровый, чертяка, – сказал Толя Мыльников и дружески пошлёпал карася ладонью. – Надо бы его сразу выпотрошить, уда¬лить жабры и натереть изнутри солью.
– Успеется, – ответил папа.
Мы положили карася в пакет и отправились домой. Карась глядел из пакета светлым глазом, а мы с папой гордо поглядывали на карася.
– Карась, Андрей, – говорил папа, – рыба, сходная с осетром, но только мельче. У карасёвых – хорошее вкусное мясо, богатое антирахитическим витамином Д. Это очень питательная, нежная и при¬ятная на вкус рыба!..
Мы стали придумывать с папой, что нам из него мама приготовит на обед.
– Можно запечь карася под майонезом! – говорит папа. – Или запечь его в тесте целиком… Можно съесть отварного с картофелем. Зафаршировать! Или сделать заливное.
– А может, просто пожарим в сухарях? – радостно подхватил я. – Или в сметане?
Так мы и сказали маме, увидев её в саду:
– Сделай нам свежежаренного в сметане карася!
А мама как увидела, что он ещё живой, говорит:
– Фу! Не могу смотреть на угасающие рыбьи жизни.
Папа ей:
– А срезанный гриб – тоже страшное зрелище? И можно не выдержать, глядя на его отрезанную ногу?
А мама:
– Я категорически отказываюсь кого-либо отправлять на тот свет.
– Тогда приготовь нам кабачок, – попросил папа.
А мама отвечает:
– Утром как-то не хочется р е з а т ь кабачки.
– Люся, Люся, – не выдержал папа, – тебя никто не просит поросят резать на Рождество. Но кабачок – ведь это совсем другое дело!
– Взгляни на меня, Люся! – папа задрал майку и втянул жи¬вот. – Вглядись, какой я! Меня лифт не поднимает, и банки не при¬сасываются к телу. Я понапрасну растратил свою молодость.
– Зато я научила тебя кататься на велосипеде, – сказала мама. – Благодаря мне ты узнал, что такое скорость.
– Скорость – это счастье, – говорю я.
А папа:
– Велосипед в моей жизни – излишество. Я требую неукоснительного режима еды.
– А сколько раз я организовывала чай? – с обидой сказала мама.
– Чтобы прожить жизнь, – папа выпустил карася в таз, – одного, Люся, чая недостаточно! Ты когда-нибудь замечала: едут женщины в метро с огромными сумками? Знаешь, что там у них?
– Нет, – ответила мама.
– У них в сумках убитые животные.
– Не может быть, – прошептала мама.
– Люся, Люся, – папа взял острый нож, – это суровый закон природы. Вон в окне чёрный грач белыми зубами ест невинного козлёнка. Слизень сгрыз селезня. Жаба сжевала кота…
– Съешь плавленый сырок, – предложила мама. – Эрнест Хемингуэй любил плавленые сырки. Как где-нибудь увидит плавленый сырок – весь задрожит. Не успокоится, пока не съест.
– Я хочу съесть животное, – говорит папа. – Любого обитателя гор, лесов или рек.
Карась затаился. Он тихо сидел в тазу и глядел из воды на плывущие облака.
– В конце концов, ужас и смерть ждут каждого! – сказал папа и занёс над ним нож.
В фартуке до земли, без зуба, мрачный совершенно, он начал де¬лать ножом в сторону карася пырятельные движения. Карась зажмурился.
– Знаешь, пап, – говорю я, пока он никого не ранил и не убил, – вообще у нас всё правильно идёт. Но не совсем.
– Что-нибудь не так? – растерялся папа.
– Надо почитать, как это делается, – говорю я. – По-моему, его стоит вынуть из воды.
– Ты прав, сынок, – согласился папа. – Никто не берётся за это дело без надлежащей подготовки.
Он вынес из дома книгу «О вкусной и здоровой пище», открыл главу «Разделка рыбы» и стал мне вслух читать:
«Живую рыбу, прежде чем начать чистить, надо заколоть: острым концом маленького ножа делают глубокий разрез горла между головными плавниками и дают стечь крови».
Папа поднял голову и долго молчал.
– Ты чувствуешь, как пахнет нагретой крапивой? – спросил он наконец. – А скоро опять будет холодно и темно.
– Давай его закоптим! – говорю. Я понял, что папа хочет избегнуть кровопролития.
– Хорош карась в копчёном виде! – обрадовался папа. – Как я люблю, – говорил он, собирая стружки и еловые шишки, – когда идёт дождь, и вся семья в сборе, и чистится картошечка, и рыбка копчёная…
Мы разожгли огонь в чугунной печке на огороде, схватили карася и положили на сеточку над горячим дымом.
– Коптись, мокропузый! – сказал папа. А маме сказал он, строптивый и гордый: – Благодари Бога, Люся, что у тебя есть муж, готовый до самой смерти всех вас кормить и обувать!
Карась зазолотился с боков, его чешуя стала ещё ярче, он весь засверкал, засиял, но даже не подумал прощаться с жизнью.
– Карась, карась! – закричал папа. – Ты почему не сварился в собственном соку?
– Не смей кричать на рыбу, – сказала мама. – Кричать на рыбу – это всё равно что кричать на водоросль.
– Хватит с ним чикаться, – говорит папа. – Сунем его в морозилку. Рыба, замороженная в живом состоянии, если её правильно разморозить, по качеству не отличается от свежей.
Папа завернул карася в газету и положил в холодильник.
Мы постояли, глядя, как солнце садится за тёти Нюрин огород. В Уваровке день нескончаемый – вмещает три московских дня. Можно шесть часов удить, пять – гулять, двенадцать часов спать, восемь – есть, четыре – кататься на велосипеде, а день всё не будет кончаться и не будет.
– Ты заметил, – говорю я, – когда темнеет, какая наступает в мире тишина?
– Я в тоске какой-то, когда темнеет, – отвечал папа. – День умирает, лето скоро отцветёт.
Он прильнул ухом к морозилке и весь превратился в слух.
– Слышишь? Слышишь? – сказал он. – Душа карася расстаётся с телом.
Наутро я проснулся и сразу принюхался: не пахнет ли жареной рыбкой? Ничем вкусным не пахло. Я вышел на кухню и обнаружил там маму с папой, нависших над ледяным карасём.
– После отморожения, Люся, – говорил папа, – рыбу надо по¬ложить в холодную воду, а то она будет дряблой и невкусной.
Он снова опустил карася в таз. Тот лежал синий, твёрдый, неподвижный, как древесный ствол.
– Умер, – сказала мама и заплакала.
– Эх ты, Люся, как ты на всё реагируешь! – расстроился па¬па. – Как Сократ бы на это прореагировал? А Диоген?
– То, что ты сделал, Миша, – сказала мама, – ты всю жизнь об этом будешь жалеть.
А папа – низенький такой, в ботинках, шапке, телогрейке – ей говорит упавшим голосом:
– Люся, Люся, теперь на моей могильной плите ты, наверное, напишешь: «Убийца карася».
– Я напишу: «Любитель прогулок», – сказала мама.
Тут я им говорю:
– Друзья! Что за похоронные настроения? Режьте его на куски, жарьте на сковородке и давайте завтракать!
– Не надо завтракать, в желудке будет тяжесть, – сказала мама.
– В желудке тяжесть – на душе легко! – ответил папа и вдруг вскочил как ошпаренный.
Летним полуднем в тени зелёной антоновки и чёрных слив плавал как ни в чём не бывало, бил хвостом по воде оттаявший карась. Два плавника его, торчавших из воды, горели на солнце, а сам он – пружинистый, гладкий, цвета златоустовского клинка, похож был на резиновую галошу.
– Что ж вы такие обормоты-то, а? – сказала мама, утерев слезу. – Не могут карася отправить к праотцам.
– Люся, Люся! – воскликнул папа, ошарашенный сложностью женской натуры. – В Уваровке климат очень лечебно-профилактический. Он хорошо действует на эмаль зубов, на царапины и наруж¬ную оболочку рта, и приятный холодок пробегает по коже, и не бывает цинги, от которой гибнут отважные моряки. Воздух, щупаль¬ца сосны и мох леса не дают карасю проститься с жизнью. Но одно твоё слово, Люся, и я любому горло перегрызу.
Сутулый, грустный, молчаливый папа схватил лопату и бросился на карася. Он оскорблял карася, замахивался на него лопатой, предвещал ему всякие ужасы, грозил, что засолит, как селёдку!..
– Дай я тебе причёску поправлю, Миша, – сказала мама, – а то ты на Гитлера похож.
– А ты, Люся, похожа, – сказал папа, бледный как смерть, – на Маргарет Тэтчер.
Им хорошо, они всегда вдвоём. Это я один да один. Папа говорит:
– Ничего, Андрюха, вырастешь, женишься, тоже будешь счастлив, как я.
А я ему:
– Нет, я, наверное, застесняюсь и буду прятаться, такой большой, под столом.
Я поднял голову и увидел лицо Бога. По нему летели вороны. Облака у него были губы, а солнце – зуб золотой.
– Люся, Люся, – звал папа маму. – Ты взрослая женщина! Свари его живьём в кипящем масле!
А мама отвечала:
– Не могу! Я не могу осознать возраст, не верю, что мне тридцать пять, что у меня десятилетний сын и пятилетний кот Кузя, потому что вся моя жизнь – сплошная весна!
– Так не доставайся же ты никому! – папа взял за хвост карася и швырнул его коту.
– На, Кузька, на, – сказал он, – съешь его со всеми потрохами.
Карась лежал на траве, несгибаем и величав. Покой и безмятежность, мир, тишина и симпатия к Кузе сквозили во всей его фигуре.
Кузьма напрягся, сглотнул… и не двинулся с места.
– Кузь, – уговаривал его папа, – Кузь!..
Нос Кузи расширился до необычайных размеров, глаза выпучи¬лись, изо рта вырывался рык, но он и головы не поднял от крыльца.
– Встать, когда с тобой русский разговаривает! – крикнул папа.
Кузя не шелохнулся.
– Всё,– говорю.– Я его уже не смогу есть.
– А я его уже не смогу зарезать, – говорит папа. – Он личность, он характер, он существо высшего порядка. Таким карасём можно только отравиться.
– Возьми себя в руки, Миша,– сказала мама,– мужчина ты или нет?
– Нет, – твёрдо ответил папа. – Я книжный червь. Я не могу победить живую рыбу. Я могу победить только полуфабрикат. Да и не такой уж я любитель рыбы. Если я мяса день не ем, меня всего трясёт. А если рыбы – то нет.
– В нашей семье вообще, – вскричал он, воодушевившись, – пора покончить и с мясом, и с рыбой! И прекратить пить чай – это наркотик.
Папа заботливо поднял с земли карася и понёс его в таз. А ка¬рась – худенький, как голубь, – ласково приник к папиной груди.
Ночью мы все проснулись: залаял соседский Буран. Кто-то, наверно, ходил за окнами – воровал кусты облепихи. Папа отодвинул занавеску и начал вглядываться в темноту, пытаясь различить под яблоней таз с карасём.
– Как там карась, интересно? – слегка разволновавшись, сказал он.
Да и у нас с мамой заныло сердце: вдруг его утащит какой-нибудь злой человек? Или унесёт в клюве горный орёл?
– Это совсем не такая ночь, – сказала мама, – когда маленьким карасям можно сидеть одним в тазах на улице.
Мы отперли дверь и втроём вышли во двор.
Тёмная, тёмная ночь была, очень тёмная ночь, жутко тёмная, звёздная, с месяцем в небе. Месяц отражался в тазу, и когда карась шевелился во сне, то шевелился и месяц.
Пока мы смотрели на карася, он забеспокоился, проснулся и поднял голову.
– Спи, Гриша, – сказал папа и мягко потрепал карася по за¬тылку. Он назвал его Гришей в честь Григория Распутина.
– Надо внести его в дом, – сказал папа и пошёл впереди, взяв в руки фонарь. Идёт – такой нелюдимый, в пижамных штанах, с тонкими руками. А мы за ним – я и мама – тащим таз.
– Ты мой тупорылый, – бормотал папа, засыпая, – ты мой пучеглазый…
Первое, что он спросил, проснувшись:
– Люся, ты кормила Гришу?
– О жизни карасей мы знаем очень мало, – сказала мама. – Что они любят? Чего терпеть не могут?
– Дай Гришке риса, – говорю я. – Рис похож на личинки жуков-плавунцов.
– Дай лучше гречки, – говорит папа. – Гречка похожа на жареных блох.
А сам несёт уже карасю намятый хлеб в пакете. Я случайно чихнул возле таза с Григорием, так папа меня за это чуть не укоко¬шил.
– Чихает прям! – закричал он.– У меня хлеб открытый! Я карася кормлю этим хлебом. А он чихает!
Маму посылает в магазин, кричит:
– И карасю что-нибудь купи!
Мама Григорию принесла куриные шеи.
– А я видел, несли бедро коровы из магазина! – с упрёком говорил папа.
Наконец, мама сказала ему:
– Отпусти Гришу, Миша. Пусть сам себе добывает пищу. Он решил, что у нас можно как сыр в масле покататься. А нам самим не хватает еды.
Стало уже темнеть, когда мы тронулись в путь. Папа нёс Гришку в целлофановой сумке. Налил туда воды и идёт, а навстречу нам Толя Мыльников – рабочий человек в больших-пребольших кедах.
– Ну как жизнь? – Мыльников Толя сунул папе свою мозолистую руку.
Папа ответил:
– Мы живём хорошо, задавленные делами и неприятностями.
А Толя Мыльников:
– Это вы всё того карася, – говорит, – никак не укантрапупите? Я за вами из-за забора давно слежу, как вы мучаетесь. Дай-ка я его головой об пень хряпну!
– Ты что?! – закричали мы. – Не дадим Григория убить!
На берегу Витаминного пруда папа вынул карася из пакета и похлопал его по плечу:
– Хорошо, карась, – сказал он, – плыви, отдыхай, набирайся сил, звони нам, пиши и всё в таком духе!
Григорий бухнулся в пруд к лягушкам и пиявкам, не затаив никаких обид. Его карманы были набиты гостинцами. Мама забро¬сала его георгинами и пожелала счастливой жизни.
– У карася жизнь недолгая, – сказал Толя Мыльников, – до следующего крючка.
– Теперь он не такой дурак, – ответил папа.